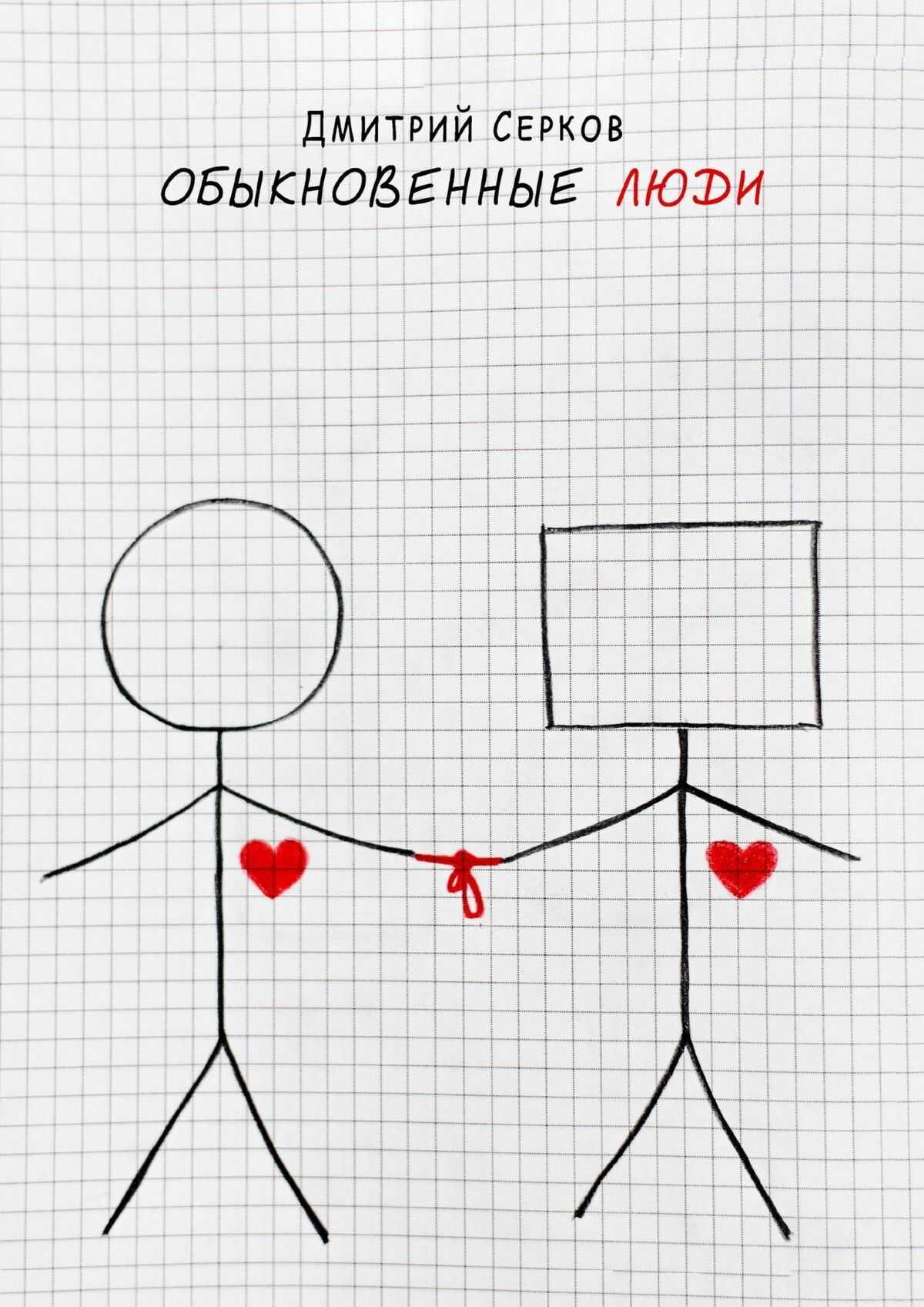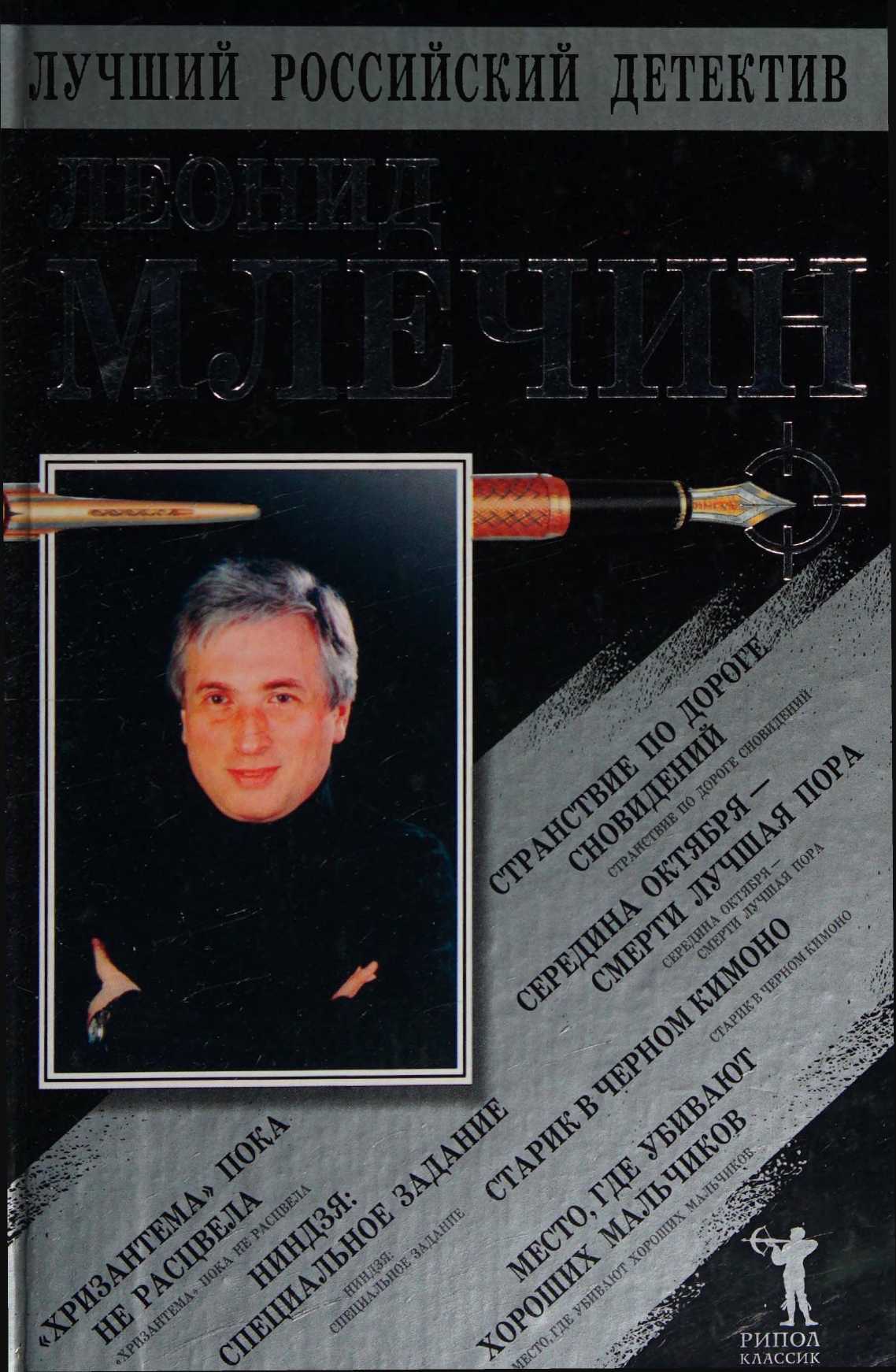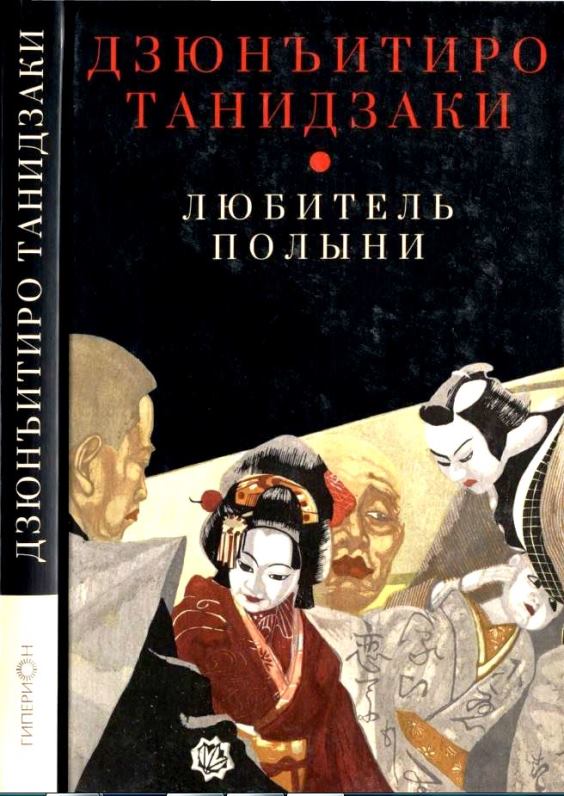Шрифт:
Закладка:
Искреннюю же её улыбку мало кто видел, впрочем, те немногие, кто видел ее – тут же хотели чем-нибудь в эту самую улыбку залезть. Да поглубже. В этом смысле улыбка у нее получалась как приглашение. Как «Добро пожаловать». Так что, судя по всему, с искренней улыбкой у нее все было в порядке. Вот только поводов так улыбаться и давать поводы для покушения на ее улыбку другим из года в год становилось все меньше и меньше. В конце концов, стоило ей только один раз дать кому-то очередной повод, чтобы залезть в ее улыбку, как потом приходилось искать еще 13 поводов, чтобы, наконец, заставить этого кого-то оттуда вылезти. В этом смысле показать искреннюю улыбку – это как показать свои пальцы, сразу начинают хватать и гнуть.
– И поскольку все отношения очередные и портятся, как молоко, ну или как настроение, то лучше их и вовсе не начинать, чем потом извлекать из улыбки просрочку, – решила она. Да и позволять в очередной раз гнуть себя ей тоже уже надоело.
Повесила табличку «Закрыто» и закрыла улыбку.
«Пожалуйста, Не надо больше в меня пожаловать».
В тот день, стоя на крыше, она проматывала назад свои 29 лет очередей, изучая каждый в поисках цели для продолжения, но каждый раз находила там только неизменное окно, с которым всегда был связан совершенно разный и непохожий взгляд. Взгляд на закате, когда ее бросили возле оранжевой клумбы. Взгляд зимой, когда она скатилась с горки и, посмотрев наверх, случайно увидела свет в окне. А может, и тот самый взгляд, когда она, открыв на крыше баночку пива, смотрела на детскую площадку своей мечты (с паутинкой и шиной-каталкой), которая появилась такпоздно. Уже после того, как эта самая мечта изменилась, повзрослела, окончила университет, просрочилась и перебросилась на бутылочки да снотворное иногда.
Те взгляды были настолько разными, словно были взглядами совершенно разных людей, к которым она не имела никакого отношения. И только окно дома напротив удерживало их вместе, не давая рассыпаться на сотни маленьких просроченных «я». Просроченных взглядов, которые изменялись и изменились настолько, что, кроме как по их направлению к неизменному окну, установить их принадлежность к ней уже никак не представлялось возможным. Только окно, объединяя все эти просроченные взгляды, связывало их с ее выпившей идентичностью, наклеивая на них именную бирку, и являлось единственным свидетельством их существования и причастности их к ней.
Не то чтобы тот свет был сильно ярким, или наоборот, сильно тусклым – так огонек, но его непременное наличие из года в год само по себе было вызывающим и даже провоцирующим.
– Вот же отстой. Почему же так интересно… – вздохнула она, а интересно ей было очень.
Когда ночь, обычно трудно найти свет, но ей никогда и искать не приходилось. Она всегда могла рассчитывать на окно двенадцатиэтажки напротив. Иногда ей даже казалось, что оно светит для нее, но потом она вспоминала, кто она, какая она и в какой очереди стоит. Настроение портилось, как молоко, и она быстро осознавала, что для Таких как она, окна не зажигают. Да и вообще, ничего она из себя не представляет. Неуклюжая оболочка с плохой реакцией и гибкими от регулярных пощелкиваний пальцами. Неумная и неглупая, некрасивая и нестрашная. Её всегда можно было описать любым прилагательным между двух «не». А когда ты существуешь между двух отрицательных частиц, кажется, что положительных не существует вовсе.
В тот день ее опять не взяли на работу. Из рук, пригодных только для хруста суставами, все валилось, а когда после этого свалилась полка, валить пришлось уже ей. Очередной вариант остался очередным. Очередное настроение опять закончилось.
– И зачем начала? Знала же, что так будет. На что надеялась? Болванка. Лучше уж вовсе не надеяться, чем потом так, – в очередной раз стояла на крыше с прохладной баночкой. Жидкость щекотала горло изнутри, а низкое солнце снаружи.
– Ну и ладно, подумаешь! – высказала она работодателю в дорогом спортивном костюме, зависшему в воздухе перед ней.
Она даже захотела бросить в него банкой, да только два обстоятельства помешали:
1 – В банке еще оставалось пиво, а упускать возможность до конца выпить пива ей не хотелось. Она заплатила за него целых 59 рублей.
2 – Снизу еще передвигались люди. Не хотела бы она на их месте, чтобы сверху что-нибудь свалилось.
Сделала шаг назад и жадно вцепилась в банку губами. Высосала до глухого свиста.
Теперь ей мешало только второе обстоятельство.
Она оценивающе посмотрела на очередного парящего работодателя.
– Нет, ну вот же Козел какой! – надулась она.
«Подумаешь…»
И все бы ничего, да только когда очередных вариантов становится так много, что очередь из них собирается длиннее, чем очередь из бабушек за сахаром, начинаешь видеть очередь из вариантов не только позади себя, но и перед собой. Очередь между двух бесконечно удаленных и бесконечно безнадежных частиц «не», в которой ей приходится стоять, глядя, как другие без труда доходят до конца своей, заканчивая ожидание и переставая считать чужие деньги. Они добивались, а она наблюдала и щелкала пальцами. Все, кто начинал вместе с ней, доходили, а она оставалась в очереди и продолжала считать. Словом, у нее в очередной раз не было настроения. Очередной отстой.
И поскольку находиться в этой безнадежной очереди без видимого конца, надеясь, что она закончится, ей порядком надоело, ничего не оставалось, кроме как выйти из нее и больше не надеяться. Она задержала дыхание, но стоило ей выйти наполовину, как случайно, прямо как на той горке в одиннадцать лет, она посмотрела на двенадцатый этаж. А там опять этот вызывающий свет.
И солнце опять скатилось с кровати.
А Саша скатилась назад и села, согнув дрожащие колени. – Так близко… – восстанавливая дыхание, она поочередно хрустнула всеми десятью пальцами, чувствуя, как один за одним отзываются действительные нервы. Это доказывало, что эти пальцы все еще её (пускай даже немного общественные) и что она все еще здесь, а не изменилась в последний раз. Такое себе Свидетельство о ней. Один из пальцев вдруг воспротивился – ну же! – удвоила усилия. Хотела прощелкать все до выхода, но опять покосилась на окно.
Не хотела же. Специально избегала.
– Вот же отстой, – каркнула она. – На самом интересном…
Глаза вцепились в старенькую раму, в которой плясал бессовестный